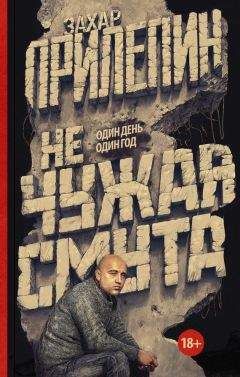Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться… Хроника идущей войны

Обзор книги Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться… Хроника идущей войны
Захар Прилепин
Всё, что должно разрешиться…: хроника идущей войны
Эта книга про Донбасс и за Донбасс.
В этой книжке нет или почти нет меня: мой личный Донбасс останется за кадром.
Моя роль здесь — слушатель и наблюдатель. Главные персонажи книги — люди, видевшие всё происходившее с начала и не покидавшие места действий.
Те, кто не просто пережил эту историю, но — сделал её сам.
Часть первая
Pro Донбасс
На Донбассе купола церквей — тёмные. Гораздо темнее, чем в большой России, здесь.
Тёмное золото, будто бы замешенное с углём. Едешь на машине по Донецкой народной республике — и видишь: то здесь, то там вспыхивает тёмный купол.
Очень много разрушенных православных храмов. Наверное, надо пояснить, что стреляют по ним с той стороны — артиллерия, миномёты или танки ВСУ[1].
Порой храм стоит на открытом пространстве, его видно издалека, как единственный головастый цветок на поле.
— Это не случайное попадание, — говорит мне мой спутник. — Часто осмысленно били именно в храмы.
Если быть точным: только на территории Донецкой республики разрушено во время войны семьдесят православных храмов. Пусть кто-нибудь попытается доказать, что это случайное совпадение.
Мы выехали с утра в компании главы ДНР Александра Захарченко в кои-то веки не по делам боевым, а с мирной целью — вручить ключи от новых квартир жителям Дебальцево: там возвели 111 новых, очень симпатичных, домиков.
Неожиданно звонят на мобильный заместителю главы, с которым мы едем в его потрёпанной «Ниве».
Есть информация, что по дороге может быть покушение на главу.
Убить Захарченко — безусловная мечта для многих.
Информацию тут же передали главе и его начальнику охраны. Надо было отменять поездку.
Через три минуты от Захарченко передали: нет, едем. Просто сменим маршрут.
Маршрутов всегда закладывается несколько, каким именно поедет глава, не знает до последнего момента почти никто, или вообще никто — потому что за минуту до выезда сам Захарченко может принять новое решение.
В этот раз решение его — парадоксально.
Мы должны были ехать в Дебальцево, делая серьёзный крюк, — чтоб держаться подальше от передовой.
Но Захарченко то ли забавляется, то ли доверяет своему чутью: и мы летим по трассе, которая проходит ровно по передку.
— Вон дом видишь? — показывает мне зам главы. — Там украинские снайпера сидят. А вон их позиции… Вон в той зелёнке они тоже есть…
Но здесь нас, похоже, вообще не ждали.
На улице — солнечный декабрьский денёк, всё кажется безоблачным и мирным.
Я смотрю на купола и вспоминаю, где уже видел этот тёмный свет.
Захарченко не курит только под капельницей. Когда нас познакомили — он не курил.
Раздетый по пояс, он лежал на диванчике, в комнатке за своей приёмной. Рядом, за столом, сидели врач и медсестра, тихие и тактичные женщины.
Подкапывала какая-то животворящая жидкость, сразу из двух банок.
Разговаривая, Захарченко время от времени недовольно поглядывал на эти банки, ему казалось, что всё происходит слишком медленно.
Потом я заметил, что ему так кажется всегда: жизнь должна происходить быстро — нестись с такой скоростью, чтоб цветы и травы склонялись по пути.
Наконец, его отцепили от склянок, он быстро встал и начал одеваться в свою почти неизменную «горку», которая, ничего не поделаешь, идёт ему куда больше костюма и даже парадного кителя.
«Горка» была выстиранная, опрятная, но явно поношенная.
— Ты всю войну в ней прошёл? — спросил я. Прилюдно я буду обращаться к нему на «вы»; в неофициальной обстановке на «ты».
— А по ней видно. Я тебе сейчас покажу. Вот она, зашитая-перешитая, подряпаная, потёртая. Её от пота, и от крови стирали. Когда в меня пуля попала, мне распороли штанину; потом зашили. И в берцах в этих я тоже всю войну проходил. Вот заплатку на берцах поставили — наши мастера сапожники.
Последний раз Захарченко был ранен в ногу, пуля прошла над самой пяткой — он заметно прихрамывает.
«Надо же, — думаю, — оставил старые берцы».
Но про суеверия пока не спрашиваю; не очень понятно: ходить в прострелянных берцах — это суеверие, или, что ли, бравада, или ещё что-то; может, просто берцы жалко.
— Поменяешь форму?
— Конечно, одену новую.
— Когда войны не будет?
Захарченко вешает на ремень нож, он всегда с ножом, и, быстро подняв взгляд, секунду смотрит на меня:
— Войны не будет? Будет. Как начиналась Вторая мировая? Тоже с таких вот непонятных конфликтов: то Польша, то Чехословакия, то Финляндия, то ещё что-то. А тут мы, тут Сирия. Давайте смотреть правде в глаза. Мы сейчас врубимся по полной программе. Уже врубились. Исходя из опыта истории пройдёт два-три года — и мы сцепимся. Всё, что должно решиться кровью и железом, оно решится кровью и железом, и больше ничем. Ты не сможешь убрать из СБУ[2] 70 % ЦРУшников без применения силы. Ты не сможешь убрать из их Минобороны всех заезжих советников. А как ты будешь с Яценюком разговаривать? Он агент ЦРУ, и не только он. — Захарченко затягивает ремень, и уже по дороге в свой кабинет договаривает:
— Всё, что должно решиться войной, рано или поздно ею решится. Любая драка должна завершиться чьей-то победой или поражением. Если мы решим случившееся миром, то и я, и 90 % из тех людей, которые здесь остались, — все мы будем считать, что у нас украли победу. А те, которые там, — как они будут воспринимать нас? Если у них неправильное правительство, которое выбрало себе не тех союзников, и армия их неправильно себя вела, — это не может так закончиться, как сейчас. Мы с людьми на другой стороне — одной крови, и здесь не может быть выигравших и проигравших. Если ты нёс слова правды и проиграл — значит, возвращайся на другую сторону и стань победителем.
Я слышу в словах Захарченко противоречие: если нет выигравших и проигравших, то как можно стать победителем, но вместе с тем понимаю, что никакого противоречия здесь нет: потому что он не говорит о победе над собственным народом.
— Возврат в нормальную жизнь должен сопровождаться изменением ценностей, — быстро говорит Захарченко, у него вообще быстрая речь, он словно не поспевает за своей мыслью. — Невозможно понять, что ты сильнее, пока не определишь, что ты сильнее. Покаты сапогом своим не наступишь на горло и не скажешь, что я сейчас могу своим сапогом передавить тебе шею, либо я убираю свой сапог и поднимаю тебя — живи. Только живи по нашим законам, воспринимай нашу правду. Не хочешь? Вали в Европу. Свобода выбора. Это моё мнение. Я не знаю, правильное оно или нет. Победа может быть разной. Можно завоевать всю Украину. Но, может быть, этого и не нужно делать. Потому что взятие Харькова или Киева будет сопровождаться большими потерями мирного населения. И на фоне этих убийств мы будем восприниматься как захватчики. Но здесь, на своей земле, мы должны показать силу оружия. Мы выгнали их, показали силу, встали на границе, хотя могли идти дальше. Хоть вы и разрушили наш дом, мы не звери, мы не суки, мы не пойдём разрушать к вам. Но то, что ваши сорок миллионов ничего не смогли сделать с двумя миллионами — это серьёзная вещь, это повод для огромного психологического надлома у населения там. Это горечь унижения, поражения. Понимания, что они не с теми воевали, что выступали в роли карателей, убийц и мародёров. Вот это да.
То, что ты говоришь, это… на грани жестокости.
Я не был жестоким в апреле месяце.
На Донбассе мне приходилось бывать в самых разных качествах.
Сначала я ездил туда как военкор, и мои репортажи публиковали газеты с многомиллионными тиражами.
Потом я, назовём это так, всячески способствовал деятельности одного подразделения ополченцев.
Одновременно я занялся гуманитаркой, потому что не было сил на всё это смотреть, — и объездил на своём «Мицубиси Паджеро» весь Донбасс вдоль, поперёк, наискосок и обратно. Первый раз я заезжал на переполненном джипе и за мной шла забитая под завязку лекарствами «Газель», последний раз мы пригоняли уже три фуры плюс шла за нами бессменная «Газель», плюс ещё четыре гружёных джипа, и внушительная команда моих товарищей.
Потом, волею судеб, я начал работать в администрации Донецкой народной республики, при Захарченко, которого в первый год войны не знал.
Помню, сообщил об этом военкору Жене Поддубному, моему замечательному товарищу, он с доброй иронией кивнул, пряча фирменную свою улыбку.
— Ну, береги себя.
— Что он, совсем безбашенный? — спросил я, будучи наслышанным о поведении Захарченко и в ситуации боевых действий, и в их отсутствие тоже.
— Вообще, — коротко и веско ответил Поддубный.